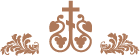Странная и все же близкая. Каллист, митрополит Диоклийский (Уэр Тимоти)

Странная и все же близкая:
Мое путешествие в Православную Церковь
Небо и земля сегодня едины
(из службы рождественского Сочельника)
О странная Православная Церковь!
(о. Лев Жилле)
Отсутствие и присутствие
Хорошо помню, как началось мое путешествие в Православие. Случилось это, когда мне было семнадцать, совершенно неожиданно летним субботним днем 1952 г.. Я шел по Букингем Пэлэс Роуд, недалеко от Виктория Стейшн в центре Лондона, мимо большой ветхой готической церкви XIX века, которую раньше не замечал. На ней не висела поясняющая табличка (общественные связи никогда не были сильной стороной Православия в западном мире!), но зато медная дощечка гласила просто: “Русская Церковь”.
Когда я вошел в храм св. Филиппа — так называлась церковь, — вначале мне показалось, что он совершенно пуст. Снаружи на улице ярко светило солнце, но внутри было прохладно и темно, как в пещере. Пока мои глаза привыкали к полумраку, первое, что привлекло мое внимание, было именно отсутствие чего-либо. Не было ни скамеек, ни стульев, расставленных аккуратными рядами; передо мной расстилалось пустое пространство гладкого пола.
Вскоре я увидел, что церковь не совсем пуста. В центральном и боковых нефах находилось несколько прихожан, в основном, пожилых. На стенах висели иконы с мерцающими лампадками, а на восточной стороне горели свечи перед иконостасом. Пел хор, которого не было видно. Через некоторое время из алтаря вышел диакон и обошел церковь, кадя иконы и людей. Я заметил, что его облачение было старым и изношенным.
И вдруг первое впечатление отсутствия сменилось ошеломляющим ощущением присутствия. Мне казалось, что церковь не только не пуста, но полна — наполнена бесчисленным множеством молящихся со всех сторон от меня. Я интуитивно осознавал, что мы, видимое собрание, — часть гораздо более великого целого и что когда мы молимся, то участвуем в гораздо более великом действии, чем наша молитва, — в целостном, всеохватном празднестве, соединяющем время и вечность, мир дольний и мир горний.
Годы спустя с радостным чувством узнавания читал я в “Повести временных лет” историю обращения св. Владимира. Вернувшись в Киев, русские послы рассказывали князю о Божественной Литургии, на которой они присутствовали в Константинополе: “И не вемы, на небе ли есмы были, ли на земли: несть бо на земли такаго вида ли красоты такоя, и недоумеем бо сказати; токмо то вемы, яко онеде Бог с человеки пребывает... Мы убо не можем забыти красоты тоя”.[1] Поразительно, но точно то же чувствовал я на всенощной в храме св. Филиппа на Букингем Пэлэс Роуд. Конечно, внешняя обстановка была не такой блистательной, как в Византии X века, но подобно послам князя Владимира, я тоже встретился с “небом на земле”, я тоже почувствовал себя на небесной Литургии, ощутил близость ангелов и святых и нетварную красу Царства Божия. ”Ныне силы небесныя с нами невидимо служат...” (из Литургии Преждеосвященных Даров).
Я вышел из церкви до окончания службы, пораженный двумя вещами. Во-первых, невозможно было сказать, сколько времени я пробыл в храме — двадцать минут или два часа: время не имело там значения. Во-вторых, стоило мне ступить на тротуар, как городской рев накатился на меня точно громадная волна. Он должен был быть слышен и внутри церкви, но там я не замечал его; там я пребывал в мире, где время и движение не имели значения, в мире более реальном — я готов был сказать: более ощутимом, — чем Лондон двадцатого столетия, в котором я вдруг снова очутился.
Служба на этой всенощной отправлялась на церковнославянском языке, так что умом я не понял ни единого слова. И тем не менее, выйдя из храма, я сказал себе в полной уверенности: “Вот откуда я родом; я вернулся домой”. Бывает так (и разве это не странно?), что прежде чем мы хорошенько узнаем человека, место или предмет, мы уже точно знаем: это тот человек, которого я буду любить; это то место, куда мне нужно поехать; это тот предмет, изучению которого преимущественно перед всеми другими предметами я должен посвятить свою жизнь. С момента того посещения службы в Свято-Филипповском храме на Букингем Пэлэс Роуд в глубине своего сердца я почувствовал, что предназначен для Православной Церкви. (Так вышло, что этого храма больше нет: он был снесен через четыре года после описанного события.)
Я благодарен, что моя первая встреча с Православием произошла не через чтение книг, не через знакомство с членами Православной Церкви в каком-нибудь общественном собрании, но через богослужение. Церковь, по православному разумению, есть прежде всего литургическая община, которая выражает свою подлинную природу молитвенным обращением и славословием. На первом месте стоит богослужение, а учение и дисциплина — на втором. Мне посчастливилось открыть Православие в первый раз через участие в общей молитве. Я столкнулся с Православной Церковью не как с теорией или идеологией, а как с конкретным и особенным фактом, как с богослужением.
“Это то, во что я верил всегда...”
Сейчас мне ясно, что в тот летний день 1952 г. моя душа была уже готова к принятию Православия. Но произошло это еще примерно через шесть лет. Слишком необычным было в Англии 50-х годов стремление вступить в Православную Церковь, и большинство моих друзей-англичан старались разубедить меня. “Ты всю жизнь будешь чудаком, — возражали они. — Бог устроил так, что ты родился в западной культуре — не беги же от трудностей и проблем своего исторического наследия”. Православное богослужение, быть может, и прекрасно, но разве, спрашивали они, не существует печального разлада между православными принципами и практикой? Не было ли мое отношение к Православию слишком идеализированным, слишком чувственным? Не ищу ли я безопасности и защиты, которых мы не должны искать на земле?
Однако более неожиданным было то, что большинство православных, к которым я обратился за советом, тоже не слишком одобряли мое намерение. Они честно и реалистично — и за это я им до сих пор признателен — указывали мне на исторические недостатки Православной Церкви и на особые трудности в ее отношениях с Западом. В Православии, предостерегали они меня, очень много такого, что слишком далеко от “неба на земле”! Когда я подошел к епископу кафедрального греческого собора в Лондоне, Иакову (Вирвосу) Апамейскому, он долго и благожелательно беседовал со мной, но посоветовал оставаться членом Англиканской Церкви, в которой я воспитан. Один русский священник в Париже дал мне точно такой же совет.
Тогда это поразило меня. Читая о Православной Церкви, я сразу обнаружил, что она считает себя не одной из многих возможных “деноминаций”, но истинной Христовой Церковью на земле. Дело, однако, выглядело так, будто сами православные говорили мне: “Да, действительно Православие — единственная истинная Церковь, но у вас нет никаких оснований присоединяться к ней. Она для восточных — для греков, русских и других”. Приверженность спасительной истине оказывалась зависящей от случайностей рождения и географии.
Теперь я лучше понимаю, почему владыка Иаков сказал мне это. Сорок или пятьдесят лет назад многие православные, как и многие англикане, искренне надеялись, что Англиканская Церковь найдет путь объединения с Православием. Поэтому индивидуальные обращения англикан в Православие не поощрялись; считалось, что англиканину лучше оставаться в своей Церкви и изнутри содействовать единству, будучи неким “англикано-православным” ферментом.
Боюсь, что надежды на такое объединение всегда были слишком радужными. Впрочем, нельзя забывать, что в первой половине двадцатого века умеренная партия “Высокой Церкви” в англиканстве (которая основывается на Вселенских Соборах и Отцах) была гораздо сильнее, чем сегодня, тогда как крайне “либеральное” крыло, с его доктринальным и моральным релятивизмом, гораздо менее себя обнаруживало, хотя и было уже явно налицо. Во всяком случае, владыка Иаков был совсем не одинок в своей мечте, что “Высокая Церковь” со временем сделается ядром естественно возникающего западного Православия.
Владыка Иаков руководствовался еще и пастырскими соображениями. В то время ни один из греческих приходов не употреблял английский язык при богослужении, и немногие из его клира разговаривали на каком-нибудь другом языке, кроме греческого. Не имея возможности полноценно окормлять англичанина, он не хотел принимать его под свой омофор и был здесь совершенно прав, так как принять новообращенного и больше никак не заботиться о нем было бы со стороны православного священника непростительной безответственностью. (Хотя могу вспомнить много случаев, когда именно это и происходило.) Новообращенного надо ввести в живую общину; нельзя бросить его в глубокое озеро Православия и оставить самого барахтаться там или тонуть.
И кроме того, как я думаю теперь, владыка Иаков испытывал меня. Видя мое рвение стать православным, он хотел, чтобы я тщательно взвесил аргументы и за противоположное решение. Он знал, что если мое намерение серьезно, я вернусь к нему. Так и произошло.
Между тем, незадолго до визита к епископу Иакову я начал устанавливать контакты с православными. Вскоре после того первого посещения службы в русской церкви в Лондоне я поступил учиться в Оксфордский университет. Первые четыре года мы проходили классику (древнегреческих и латинских авторов) и немного — современную философию. После этого я остался на два дополнительные года для изучения богословия. (Так получилось, что я не учился в англиканском теологическом колледже и не был рукоположен в Англиканской Церкви.) В Оксфорде появилась возможность встретиться с православными лицом к лицу. В частности, мы познакомились с Николаем Зерновым, преподавателем курса по восточной православной культуре. До сир пор с наслаждением вспоминаю о радушном гостеприимстве, которое оказывали они с женой Милицей множеству своих гостей, о создаваемой ими веселой и непринужденной атмосфере общения. Там же я встретил отца (впоследствии архиепископа) Василия Кривошеина, служившего тогда в маленькой церкви в Оксфорде и готовившего свое классическое издание “Слов” преп. Симеона Нового Богослова. Новый мир открылся передо мной, когда я услышал от него, как преп. Симеон описывает свои видения Божественного нетварного Света; я начинал осознавать центральное место, отводимое в Православии таинству Преображения Христова.
Во время учебы в Оксфорде, под влиянием моего близкого школьного друга Дональда Олчина, я стал активным членом Содружества св. Албания и преп. Сергия, целью которого было способствовать установлению единства между Православием и англиканством. Летняя конференция Содружества оказала на меня решающее воздействие. Здесь я услышал таких англикан, как архиепископ Майкл Рэмси, о. Дервас Читти и проф. Х. А. Ходжес; все они рассматривали Православие как всеобъемлющую полноту христианского Предания, как то, к чему англиканство должно вернуться. На их взгляд, англикане могут полностью разделять православную веру, все еще хранимую в Англиканской Церкви, а мы, члены Содружества, призваны помочь нашим английским братьям стать ближе к Православию.
Их воодушевление зажгло и меня, но что-то во мне оставалось неудовлетворенным. Я жаждал быть православным полностью, вполне ощутимым образом. Чем больше я узнавал о Православии, тем больше понимал, что это именно то, во что всегда верил в самой сокровенной глубине души, но никогда прежде не встречал так полно выраженным. Я не находил, что Православие архаично, чуждо или экзотично. Для меня оно было ничем иным, как просто христианством.
Церковь одна
Мое первое знакомство с Православием было по большей части знакомством с русским Православием. Я жадно поглощал такие книги, как “Сокровищница русской духовности” Г.П. Федотова и “С русскими паломниками в Иерусалим” Стефена Грэхема. Сразу же пленил меня образ преп. Серафима Саровского в слегка приукрашенном, но волнующем описании Юлии де Бособр “Огонь на снегу”. В богословском отношении решающей вехой на моем пути был краткий очерк Алексея Хомякова “Церковь одна”. Здесь можно было прочесть в словесном выражении то видение общения святых, которое я реально испытал в русской церкви в Лондоне:
Церковь одна, несмотря на видимое ее деление для человека, еще живущего на земле. (...) Живущий на земле, совершивший земной путь, не созданный для земного пути (как ангелы), не начинавший еще земного пути (будущие поколения), все соединены в одной Церкви — в одной благодати Божией. (...) Церковь видимая, или земная, живет в совершенном общении и единстве со всем телом церковным, коего глава есть Христос. (...) Церковь живет даже на земле не земною, человеческой жизнью, но жизнью божественной и благодатною. (...) Ибо один Бог, и одна Церковь...[2]
Позднее, при более основательном знакомстве с православным богословием, я увидел ограниченность славянофильской экклезиологии Хомякова, но тогда я получил как раз то, что мне было нужно. Очень помогла мне также статья о. Георгия Флоровского “Соборность — кафоличность Церкви”, в которой он описывал природу Церкви как единства в различии, по образу и подобию Бога-Троицы:
Церковь являет себя в единстве. И конечно, это не внешнее единство, но внутреннее, сокровенное, органичное. Это единство живого тела, единство организма. Церковь есть единство не только в том смысле, что она одна и единственна; она есть единство прежде потому, что само ее существо состоит в восстановлении единства разделенного и раздробленного человечества. Это то единство, которое есть “соборность”, или кафоличность, Церкви. В Церкви человеческая природа переходит в иной план бытия, начинает новый образ существования. Становится возможной новая жизнь, истинная, полная, целостная жизнь, кафоличная жизнь “в единстве Духа, в союзе мира” (Еф. 4:3). Начинается новое существование, новое начало жизни: “да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино... да будут едино, как Мы едино” (Ин. 17:21–22). Это таинство совершенного воссоединения по образу единства Святой Троицы.[3]
Кафоличность, продолжает о. Георгий, “означает видение себя в другом, в возлюбленном”;[4] в церковной кафоличности, и только в ней одной, “находит разрешение болезненная двойственность и напряжение между свободой и послушанием авторитету”.[5] В течение всей последующей жизни я не раз обращался к этой статье, которая на двадцати одной странице говорила мне больше, чем многие тома других авторов.
Когда передо мной начало открываться Православие в русском его преломлении, я впервые поехал в Грецию в 1954 г., и духовный мир Византии в свою очередь пленил меня. Как филологу-классику, прежде всего мне хотелось увидеть Акрополь, Олимп, Дельфы и Кносс. Поэтому когда мои спутники включили в маршрут Спарту, я запротестовал: разве спартанцы не были всего лишь спортсменами и воинами, не оставившими после себя ни одного памятника, достойного, чтобы делать такой объезд? Но в действительности друзья предложили посетить не саму Спарту, а византийский город Мистру в трех милях от нее. Здесь я имел удовольствие созерцать не какие-то рассыпанные руины, но целый город, расположенный на склоне холма — улицы, дворцы, монастыри, многокупольные храмы, — да еще на великолепном фоне снежного Тайгетского хребта. Разглядывая живые лики святых на фресках церковных стен, я, подобно У.Б. Йетсу, нашел в них “учителя пения моей души”.
Предание, мученичество, безмолвие
По мере углубления в Православие три вещи особенно крепко приковали мое внимание. Во-первых, в современном Православии я увидел — не взирая на внутренние трудности и человеческие недостатки — живое и неповрежденное продолжение Церкви апостолов и мучеников, Отцов и Вселенских Соборов. Это живое преемство можно выразить словами “полнота” и “целостность”, но еще лучше — понятием “Предание”. Православие обладает — не по человеческим заслугам, но по благодати Божьей — полнотой веры и духовной жизни, полнотой, в которой элементы догматики и молитвы, богословия и духовности составляют органическое целое. В этом смысле Православная Церковь — Церковь Священного Предания.
Мне хотелось бы особенно подчеркнуть слово “полнота”. Православие обладает преизбыточествующей жизнью во Христе, но не монополией на истину. Ни тогда, ни сейчас я не считаю, что между “светом” Православия и “тьмой” неправославия пролегает непроходимая бездна. Мы не воображаем, что раз Православие обладает полнотой Священного Предания, то другие христианские общины не обладает вообще ничем. Вовсе нет; мне никогда не казались убедительными заявления радикалов, что таинства и благодать Святого Духа существует только внутри видимых границ Православной Церкви. Владимир Лосский справедливо говорит, что, несмотря на внешние разделения, неправославные общины сохраняют невидимую связь с Православной Церковью:
Верная своему призванию содействовать спасению всех, Христова Церковь ценит каждую малейшую “искру жизни” в раскольнических общинах. Она свидетельствует, что, несмотря на разделения, они сохраняют определенную связь с единственным жизнеподательным центром, связь, которая — в той мере, в какой это касается нас — остается “невидимой и находится за пределами нашего понимания”. Есть только одна истинная Церковь, единственная подательница благодатных таинств, но существуют разные способы отделиться от этой одной истинной Церкви, равно как и различные степени ослабления церковной реальности за пределами ее видимых границ.[6]
Таким образом, согласно точке зрения Лосского, которую я полностью разделяю, неправославные общины в разной степени причастны благодатной жизни Церкви. Однако в то время как они обладают частью спасительной и живоначальной истины, только в Православии содержится полнота этой истины.
Особенно меня поражало, что православные мыслители, называя свою Церковь Церковью Священного Предания, утверждают при этом, что Предание не статично, но динамично, носит не апологетический, но исследовательский характер, не обращено только к прошлому, но открыто для будущего. Я узнавал, что Предание — не просто формальное повторение того, что утверждалось в прошлом, но заново переживаемое христианское благовестие в настоящем. Истинное — живое и творческое – Предание строится на единстве человеческой свободы и благодати Духа. Эта живая динамика подытожена, как мне кажется, в кратком высказывании Владимира Лосского: “Предание... это жизнь Святого Духа в Церкви”.[7] Подчеркнув это, он добавляет: “Можно сказать, что в ‘Предании’ выразился критический дух Церкви”.[8] Нельзя оставаться внутри Предания просто по инерции.
В глазах многих неправославных западных обозревателей Православие выглядит застывшей в неподвижности Церковью, всегда обращенной в прошлое. Но не таким было мое впечатление, когда в начале пятидесятых годов я впервые знакомился с Православной Церковью, и конечно же, не таково оно сейчас, после более чем сорокалетнего пребывания в ней. Многие аспекты православной жизни действительно отдают некоторой архаикой, но это далеко не полная картина. Скорее напротив: то, что сэр Эрнест Баркер говорит о двенадцати столетиях византийской истории, можно сказать и о двадцати веках православной церковной жизни: “На протяжении двенадцативековой истории Византии консерватизм всегда сочетался с изменениями, а изменения всегда сталкивались с консерватизмом; в этом состоит сущность и очарование того времени”.[9]
Как жизнь Святого Духа в Церкви, Предание, открывал я для себя далее, — всеобъемлюще. В частности, оно включает записанное слово — Библию, так как нет разрыва между Писанием и Преданием. Писание существует внутри Предания, и отсюда ясно, что только посредством Предания Церковь в каждом поколении верующих может понимать и проживать Писание. Так я научился видеть Православную Церковь не только как “традиционную”, но и как библейскую. Не случайно Евангелие полагается на середину св. Престола в алтаре. Ибо подлинные евангелисты — православные, а не протестанты. (Если только мы действительно изучаем Библию, как протестанты!)
Лосский и Флоровский своими работами[10] убедили меня, что Предание не только всеобъемлюще, но и неисчерпаемо. О. Георгий Флоровский писал:
Предание есть постоянное пребывание Духа, а не только память о словах. Предание — харизматический, не исторический принцип... Благодатный опыт Церкви... в его соборной полноте... не исчерпывается ни Писанием, ни устным преданием, ни определениями. Он не может и не должен быть исчерпан.[11]
Хотя период семи Вселенских Соборов имеет важнейшее значение для Православия, не следует думать, что “эпоха Отцов” закончилась в VIII веке. Наоборот, патристическая эра открыта для продолжения (is open-ended). Кроме человеческого греха, нет никакого препятствия для того, чтобы в третьем тысячелетии состоялись Вселенские Соборы и появились новые Отцы Церкви, равные по авторитетности раннехристианским Отцам, ибо Святой Дух продолжает пребывать и действовать в Церкви сегодня, как и всегда в прошлом.
Эта подвижная и живая концепция Предания, открытая мной в Православии, стала приобретать для меня все большее значение. Я все яснее видел, что та живая связь, о которой свидетельствовала Православная Церковь, отсутствовала в моем родном англиканстве. Эта связь была ослаблена — или даже разорвана — на латинском Западе в период Средних Веков. Если даже, как полагают многие англикане еще с XVI в. и по сей день, английская Реформация была попыткой вернуться к Церкви Вселенских Соборов и ранних Отцов, то насколько она удалась? “Православность” Англиканской Церкви в лучшем случае неявна: скорее стремление и смутная надежда, чем наличная действительность и практика.
Я всегда был искренне благодарен своему англиканскому воспитанию и никогда не занимался полемикой с общиной, в которой впервые узнал Христа как своего Спасителя. С неизменной радостью вспоминаю красоту хоровых служб в Вестминстерском Аббатстве, которые я посещал еще мальчиком, учась в Вестминстерской школе, и особенно — большие крестные хода со свечами и хоругвями после литургии (at the Sung Eucharist) в праздник св. Эдуарда Исповедника. Благодарен я и за дружбу (во время учебы в школе и университете) с членами Общества св. Франциска, такими как о. Алджи Робертсон, о. Гардиан и его юный ученик брат Питер. Именно английские францисканцы раскрыли мне на глаза на место миссионерства в христианской жизни и на ценность таинства исповеди.
Я всегда рассматривал свое решение принять Православие как увенчание и исполнение всего лучшего в духовном опыте англиканства; как утверждение, а не отречение. Вместе с тем, при всей моей любви и благодарности, оставаясь честным, не могу умолчать о том, что беспокоило меня тогда, в пятидесятых, а теперь беспокоит еще больше; о том, что составляет наибольшее расхождение между соперничающими учениями внутри союза англиканских общин. Я имею в виду прежде всего противоположные взгляды англо-католиков и евангельских христиан на центральные пункты веры, такие как присутствие Христа в Евхаристии и общение святых. Следует ли почитать Святые Дары как истинные Тело и Кровь Спасителя? Можем ли мы молиться за усопших и просить святых и Божью Матерь молиться за нас? Все это не мелкие вопросы, в ответ на которые христиане могли бы спокойно согласиться принять разные мнения. Эти вопросы имеют первостепенное значение для нашей жизни во Христе. Могу ли я оставаться в общине, которая позволяет своим членам держаться противоположных взглядов на эти вещи?
Еще более беспокоило меня существование в англиканстве “либерального” крыла, которое высказывало сомнения в Божестве Христа, Его девственном рождении, чудесах и телесном Воскресении. В ушах у меня звучали слова апостола Фомы: “Господь мой и Бог мой!” (Ин. 20:28). Я слышал, как апостол Павел говорил мне: “Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша” (1 Кор. 15:14). Для моего собственного спасения мне необходимо принадлежать Церкви, которая твердо и непоколебимо верует в основополагающие христианские истины о Троице и Личности Христа. Где бы мне найти такую Церковь? Увы, не в англиканстве! Оно не обладает той преемственностью и полнотой живого Предания, которые я искал.
Может быть, это Рим? В пятидесятых годах, перед Вторым Ватиканским Собором, для любого англиканина, неудовлетворенного “полнотой” англиканства и мыслящего в направлении кафолического Предания, самым естественным путем было стать римо-католиком. Вот христианская общность, которая, не менее чем Православная Церковь, претендует на неразрывное преемство от апостолов и мучеников, ранних Соборов и Отцов. Кроме того, это Церковь западной культуры. Зачем, в самом деле, ориентироваться на Православие? Нельзя ли найти полноту живого Предания гораздо ближе?
Однако, хотя и было искушение идти в направлении к Риму, все-таки я колебался. Меня удерживало не “филиокве”, хотя после чтения Лосского я сознавал важность этой прибавки к Символу Веры. Основной проблемой была претензия пап на вселенскую юрисдикцию и безошибочность. Изучение раннего христианства убедило меня, что восточные Отцы, такие как св. Василий Великий и св. Иоанн Златоуст, и западные, как св. Киприан и бл. Августин, понимали сущность Церкви на земле совершенно иначе, чем Первый Ватиканский Собор. Я видел, что доктрина о первенстве Рима просто не соответствовала исторической истине. Акцент на главенстве папы, особенно с XI в. и далее, сильно повредил преемству Предания в Римской Церкви. Только в Православии я с несомненностью находил то, что искал: живительное и неумаленное присутствие прошлого.
Кроме того, убеждение, что только в Православной Церкви можно найти полноту и неповрежденное преемство от Церкви апостолов и Отцов, укреплялось по мере осознания мной еще двух аспектов Православия. Первый: распространенность гонений и мученичества в современном Православии — сначала от турок, затем в нашем веке от коммунистов. Это напрямую связывало Православную Церковь с доконстантиновской Церковью первых трех столетий. “Сила Моя совершается в немощи” (2 Кор. 12:9). Я увидел, как снова и снова подтверждаются эти слова в истории Православия со времен падения Византии.
Наряду с мучениками, засвидетельствовавшими свое исповедание кровью, т.е. явным и видимым образом, в Православии было бесчисленное множество других, следовавших за Христом по пути смирения, внутреннего мученичества — кенотические святые, явившие кротость, великодушие и сострадательную любовь, такие как Ксения Петербургская, Иоанн Кронштадтский и Нектарий Эгинский. Я встречал это кенотическое сострадание в романах Достоевского и Толстого. Двое святых особенно пленили меня (так как с семнадцати лет я был пацифистом): это страстотерпцы Борис и Глеб, киевские князья-братья XI века. В их отказе проливать кровь даже в целях самозащиты, в их отвержении насилия и в невинном страдании я увидел благовестие о Кресте Христовом.
Второй аспект Православия, ценность которого становилась для меня все очевиднее, — это мистическое богословие христианского Востока. Предание означает не просто передачу догматических формулировок, но и духовности. Одно неотделимо от другого и тем более не противоречит другому; как справедливо утверждает Владимир Лосский, “нет христианской мистики без богословия и, что существеннее, нет богословия без мистики”, ибо “мистика рассматривается в данном случае как совершенство, как вершина всякого богословия, как богословие ‘преимущественное’”.[12]
И если именно литургия своим символизмом и пением впервые привела меня к Православию, то теперь я видел, как “образные” формы богослужения уравновешиваются на христианском Востоке “безобразностью”, апофатичностью практики исихастской молитвы с ее “совлечением” образов и мыслей. Из книги “Путь паломника” и статей сборника “Монах Восточной Церкви” архимандрита Льва Жилле я узнал, как достигается исихия — покой или безмолвие — путем непрестанного повторения Иисусовой молитвы. Преп. Исаак Сирин поведал мне, что слова находят свое исполнение в безмолвии, как рабы замолкают при появлении хозяина:
Движения языка и сердца к молитве суть ключи, а что после сего, то уже есть вход в сокровенные клети. Здесь да умолкнут всякие уста, всякий язык; да умолкнет и сердце — этот хранитель помыслов, и ум — этот кормчий чувств, и мысль — эта быстропарящая и бесстыдная птица, и да прекратится всякое их ухищрение. Здесь да остановятся ищущие: потому что пришел Домовладыка.[13]
Церковь как общение
Три упомянутые черты — Предание, мученичество и безмолвие — уже вполне убедили меня в истинности Православия и в том, что оно наилучшим образом отвечает моему внутреннему устроению (relevance). Однако слова, услышанные на летнем съезде Содружества св. Албания и преп. Сергия в августе 1956 г., зажгли во мне непреодолимую тягу не только созерцать Православие извне, но и войти вовнутрь. Кто-то попросил о. Льва Жилле определить, что такое Православие. Он ответил: “Православный — это тот, кто принимает апостольское Предание и находится в общении с епископами, поставленными учить Преданию”.
Вторая часть этого предложения (выделенная курсивом) оказалась особенно важной для меня. В самом деле, будучи англиканином, я свободен был держаться апостольского православного Предания по своему разумению. Но мог ли я честно сказать, что англиканский епископат, с которым я находился в общении, единодушно учит этому Преданию? Внезапно мне открылось, что Православие — не просто дело личной веры; оно предполагает внешнее и видимое общение в таинствах с епископами, которые поставлены Богом свидетельствовать об истине. И уже нельзя было избежать вопроса: если Православие подразумевает общение, то могу ли я быть подлинно православным, пока остаюсь англиканином?
Простые слова о. Льва не произвели особого впечатления на участников съезда, но для меня стали решающим поворотным пунктом. Мысль, посеянная в моем уме — о том, что православная вера неотделима от евхаристического общения, — получила еще два подтверждения в литературе, которую я тогда читал. Первым была переписка между Алексеем Хомяковым и англиканином (в тот период) Уильямом Пальмером, членом оксфордской Магдалинской общины. Пальмер послал Хомякову экземпляр своей книги “Согласование англиканского учения с учением кафолической, апостольской восточной Церкви”, где пункт за пунктом цитировался “Пространный Катихизис” митр. Филарета Московского и вслед за каждой цитатой следовали цитаты из англиканских вероучительных книг, в которых утверждалось то же самое. В своем ответе от 28 ноября 1846 г. Хомяков писал, что он может составить целый том из других цитат из англиканских авторов — не менее авторитетных, чем те, кого приводил Пальмер, — которые исповедуют взгляды, прямо противоположные “Катихизису” Филарета:
Многие из ваших богословов были прежде и теперь совершенно православны; но что из этого? Их убеждения — личные мнения, а не вера Церкви. Ушер — почти совершенный кальвинист; но и он, однако, не менее тех епископов, которые выражают православные убеждения, принадлежит к Англиканской Церкви. Мы сочувствуем, мы должны сочувствовать частным лицам, но Церкви, (...) которая допускает к причастию без различия как того, кто открыто объявляет, что хлеб и вино, употребляемые для великой жертвы, остаются вином и хлебом, так и того, кто признает их за тело и кровь Спасителя, — такой Церкви мы не можем, не смеем сочувствовать. Пойду далее — предположу несбыточное, именно: что все англиканцы без исключения стали вполне православны, приняли и символ, и верования, совершенно сходные с нашими, но они дошли до такой веры средствами и путями чисто протестантскими, то есть: они приняли ее как логический вывод (...) Если бы вы и обрели всю истину, то все-таки вы еще ничем бы не обладали, ибо мы одни можем дать вам то, без чего все прочее тщетно, именно уверенность в истине.[14]
Суровые, но справедливые слова Хомякова подтверждали то, что сказал о. Лев. В то время я уже верил во все, во что верит Православная Церковь, но “средства и пути”, которыми я пришел к этому, действительно были “чисто протестантскими”. Моя вера была только “личным мнением”, а не “верой Церкви”, потому что я не мог сказать, что все мои братья-англикане веруют так же, как я, или что вера, которой учат те англиканские епископы, с кем я нахожусь в общении, была моей верой. Только став полноценным членом Православной Церкви — войдя во всецелое и видимое общение с православными епископами, поставленными быть учителями православной веры, — мог я достичь “уверенности в истине”.
Несколько месяцев спустя я прочел в рукописи статью американского грека о. Иоанна Романидеса об экклезиологии св. Игнатия Антиохийского.[15] Здесь впервые мне встретилось развернутое изложение “евхаристической экклезиологии”, которую впоследствии сделали популярной работы о. Николая Афанасьева[16] и митрополита Пергамского Иоанна (Зизиуласа).[17] Истолкование о. Иоанном посланий св. Игнатия сразу же показалось мне убедительным, а после обращения к самим посланиям это убеждение окончательно укрепилось.
Передо мной предстала картина Церкви, нарисованная св. Игнатием: престол, на нем блюдо с хлебом и вином; вокруг престола епископ с пресвитерами и диаконами и весь святой народ Божий, объединенный в священнодействии Евхаристии. Св. Игнатий увещает: “Старайтесь иметь одну евхаристию. Ибо одна плоть Господа нашего Иисуса Христа и одна чаша в единение Крови Его, один жертвенник, как и один епископ...”[18] Это нарочитое повторение слова “один” поразительно: “одна плоть... одна чаша... один жертвенник... один епископ”. Вот Игнатиево понимание Церкви и ее единства: Церковь поместна, это собрание всех верных в одном месте (epi to auto); Церковь евхаристична, это собрание вокруг одного жертвенника, чтобы разделить один хлеб и одну чашу; наконец, Церковь иерархична, ибо это не любое евхаристическое собрание, но такое, которое собрано под главою одного местного епископа.
Согласно антиохийскому епископу, единство Церкви — не теоретический идеал, но практическая реальность, которую образует и делает видимой участие поместной общины в святых таинствах. Хотя епископ занимает здесь центральное место, единство нельзя рассматривать как нечто, приходящее извне, в силу юрисдикции, но как создаваемое изнутри в акте евхаристического общения. Прежде всего Церковь — это евхаристический организм, который становится самим собой в совершении таинства вечери Господней “доколе Он придет” (1 Кор. 11:26). Св. Игнатий в интерпретации о. Иоанна Романидеса снабдил меня недостающим и столь необходимым связующим звеном. Хомяков говорил об органическом единстве Церкви, но не связывал его с Евхаристией. Лишь только я осознал эту неразрывную связь между церковным единством и общением в таинствах, все стало на свои места.
Но где же оставался я, если не мог участвовать в таинствах Православной Церкви? В Пасху 1957 г. я впервые побывал на православной пасхальной заутрени. Я собирался причаститься утром в англиканской церкви (в том году православная и западная Пасхи совпали), но после православного празднества мне стало ясно, что это невозможно. Я уже встретил Христово Воскресение с Православной Церковью, причем так, что это было для меня совершенной и неповторимой встречей. Приобщиться после этого святых Тайн в другом месте лично для меня было бы фальшью и неправдой.
После той ночи я уже больше не причащался в Англиканской Церкви. Проведя несколько месяцев без Причастия, я в сентябре 1957 г. поговорил с Маделиной, женой Владимира Лосского. Она указала мне на опасность такого положения — пребывания на ничейной земле. “Так не может продолжаться, — настаивала она. — Евхаристия — наша таинственная пища: без нее вы погибнете”.
Ее слова получили неожиданное подтверждение через несколько дней. Со мной произошло нечто странное, чего я до сих пор не могу полностью объяснить. Я пошел в храм в Версале, где тогда служил литургию глава Русской Зарубежной Церкви архиепископ Иоанн (Максимович), ныне прославленный в лике святых. Он имел обыкновение служить ежедневно, и так как это был будний день, на литургии присутствовало всего несколько человек: один или два монаха и пожилая женщина. Я вошел в храм почти в конце богослужения, незадолго перед выходом священника для преподания Причастия. Никто не подошел для причащения, но он продолжал стоять с чашей в руке и, склонив голову набок в характерной для него манере, пристально и даже как-то грозно смотрел в моем направлении (раньше он меня никогда не видел). Лишь когда я покачал головой, он возвратился в алтарь.
После литургии был молебен святому дня; по окончании молебна владыка помазывал присутствующих елеем из лампады перед иконой святого. Я оставался на своем месте, не зная, могу ли, будучи неправославным, подойти к помазанию. Но в тот раз он проявил настойчивость и властно подозвал меня. Я подошел и принял помазание. После этого я вышел, не решившись остаться и поговорить с ним (но впоследствии мы не раз встречались и беседовали).
Поведение св. Иоанна в момент причащения удивило меня. Я знал, что практика Русской Зарубежной Церкви требует обязательной исповеди перед Причастием. Несомненно, владыка должен был знать всех причастников. И в любом случае причастник — по крайней мере, из Русской Церкви — не мог прийти так поздно на службу. Владыка имел дар читать сокровенное в сердце человеческом. Не намекал ли он мне своим поведением, что я стою на пороге Православия и что не следует больше отлагать вход?
Как бы ни было на самом деле, но случай в Версале укрепил во мне ощущение, что пора действовать. Если Православная Церковь есть единственная истинная Церковь и если Церковь есть общение в таинствах, то прежде всего я должен был стать участником православных таинств.
Не смотрите на видимое...
Оставалось, однако, еще одно сомнение. Если Православие в самом деле — единственная истинная Христова Церковь на земле, то почему, спрашивал я себя, Православная Церковь на Западе выглядит столь этнической и националистичной, так мало заинтересована в миссионерском свидетельстве, так раздроблена на “юрисдикции”, к тому же нередко враждующие между собой?
Конечно, Православие совершенно ясно утверждает, что оно — истинная Церковь. В обращении православных участников ассамблеи Всемирного Совета Церквей в Эванстоне (1954) можно прочесть:
В заключение мы должны высказать наше глубокое убеждение в том, что только святая Православная Церковь хранит в полноте и неповрежденности “веру, однажды преданную святым”. И это не за наши человеческие заслуги, но потому что Богу было угодно сохранить Свое “сокровище... в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам” (2 Кор. 4:7).[19]
Мне казалось, что между православными основоположениями и практикой пролегла зияющая пропасть. Если православные действительно верят, что они составляют единственную истинную Церковь, то почему они полагают столько препятствий на пути потенциальных новообращенных? В каком смысле Православная Церковь в самом деле “одна”, когда, например, в Северной Америке существуют по крайней мере девятнадцать разных православных “юрисдикций”, причем в одном Нью-Йорке не менее тринадцати епископов?[20] Некоторые из моих англиканских друзей говорили, что Православная Церковь не более едина, чем Англиканская, а в некоторых отношениях еще менее, поэтому мой переход будет из огня да в полымя.
Здесь мне помогли слова Владимира Лосского:
Разве многие узнали Сына Божия в “муже скорбей”? Нужно иметь очи, чтобы видеть, и чувства, раскрытые навстречу Духу Святому, чтобы узнавать полноту там, где внешнее око видит одну ограниченность и недостаточность. (...) Чтобы суметь распознать победу под видимостью поражения, силу Божию, в немощи совершающуюся, истинную Церковь в исторической реальности, нужно, по слову апостола Павла, принять “не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога” (1 Кор. 2:12).[21]
Взирая на эмпирическую действительность Православия двадцатого века на Западе, я видел явные недостатки и слабости, и сами православные не отрицали этого. Но глядя глубже, можно было увидеть и “истинную Церковь в исторической реальности”. Этническая узость и нетерпимость Православия, пусть и столь глубоко укорененные в нем, не относятся все же к сущности Церкви; они — искажения и измена ее истинной природе (хотя существуют, конечно, и положительные аспекты православного патриотизма). Что же касается множественности православных юрисдикций на Западе, на то есть особые исторические причины, и наиболее проницательные из православных мыслителей всегда видели в этом промыслительное устроение, носящее не более чем временный и преходящий характер. Кроме того, существует очевидная разница между разделениями в среде англикан и разделениями внутри Православия. Англикане по большей части едины во внешней организации, но глубоко отличаются по своим верованиям и богослужебным обрядам. Православные же, напротив, разделены во внешней организации, но непоколебимо едины в вере и богослужении.
И вот, в разгар всех этих колебаний я получаю замечательное письмо от английского православного священника, с которым я переписывался, архимандрита Лазаря (Моора), жившего тогда в Индии. Касаясь Православной Церкви, он писал:
Тут я с болью должен предупредить Вас, что внешний вид Церкви [т.е. Православной Церкви] отчаянно жалок: нет почти никакого сотрудничества между национальными Церквями, мало ценится и используется наше духовное богатство, еле теплится миссионерский и апостольский дух, мало обращается внимания на современность и нужды нашего времени, трудно найти великодушие, героизм или действительную святость. Мой совет Вам: не смотрите на видимое...[22]
Я старался следовать совету о. Лазаря. Не взирая на внешние и видимые недостатки Православия, я верил в “невидимое” (2 Кор. 4:18) — в его фундаментальное единство и в лежащую в его основе целостность вероучительного, литургического и духовного Предания.
Чтобы войти в дом Православия, нужно было постучать в какие-то определенные двери. Какую же из “юрисдикций” выбрать? Я чувствовал сильную тягу к Русской Зарубежной Церкви (Russian Orthodox Church in Exile, Russian Orthodox Church Outside Russia, ROCOR). Особенно восхищала меня ее верность литургическому, аскетическому и монашескому наследию Православия. Еще в шестнадцать лет я прочел книгу Элен Уодделл “Пустынные Отцы”, и с тех пор история восточного монашества пленила меня. Большинство православных монастырей в эмиграции принадлежало Русской Зарубежной Церкви, в том числе и те два женские монастыря, в которых я бывал: Благовещенский в Лондоне и Леснинской Божией Матери под Парижем; в обоих мне оказали теплый прием. Восхищало меня и то, как Русская Зарубежная Церковь почитала новомучеников, пострадавших за веру под советским игом. Но с другой стороны, меня беспокоила каноническая изоляция ее Синода. В 50-х годах она не была еще так велика, как впоследствии: члены клира Зарубежной Церкви регулярно сослужили с епископами и священниками Вселенского Патриархата. Но я видел, как эта Церковь все более отсекает себя от православной полноты, и это тревожило меня.
Если бы в Англии была русская епархия Вселенского Патриархата, как во Франции, я наверняка пошел бы туда. Но альтернативой Русской Зарубежной Церкви в Англии были только приходы Московского Патриархата. В Западной Европе к нему принадлежали такие личности, как Владимир Лосский в Париже, о. Василий Кривошеин в Оксфорде и о. Антоний Блюм (ныне митрополит Сурожский) в Лондоне. Однако я чувствовал, что не могу принадлежать Церкви, чьи епископы находятся под контролем коммунистов, должны периодически восхвалять Ленина и Сталина, но не могут признать новомучеников, уничтоженных большевиками. Я ни в коей мере не собирался судить простых русских верующих, живущих в Советском Союзе в условиях жестоких гонений, и не думал, как не думаю и теперь, что окажись я в их положении, выказал бы хоть толику той героической твердости, которую выказывают они. Но находясь за пределами коммунистического мира, я не мог признать своими утверждения, которые делали ведущие иерархи Московского Патриархата от имени Церкви. Как сказал мне протопресвитер Русской Зарубежной Церкви в Лондоне Георгий Шереметев, “в свободной стране мы должны быть свободными”.
Несмотря на мою любовь к русской духовности, становилось все очевиднее, что лучше всего для меня присоединиться к греческой епархии Константинопольского Патриархата в Лондоне. Как филолог-классик, я был хорошо знаком с новозаветным и византийским греческим, тогда как церковнославянского я не изучал. Став членом Вселенского Патриархата, я освобождался бы от необходимости выбирать между враждующими русскими группировками и мог продолжать дружить с членами как Московского Патриархата, так и Зарубежной Церкви. Что более важно, Константинополь есть Церковь-мать, откуда русские получили христианскую веру, так что я воспринимал этот Престол наиболее соответствующим своему стремлению вернуться к истокам. И еще: я начинал думать, что если в конце концов Православие в Западной Европе достигнет организационного единства, то это может произойти только пастырской заботой Вселенского Престола.
Поэтому я снова пришел к владыке Иакову Апамейскому и, к моей великой радости, он был готов принять меня сразу же. Правда, он предупредил меня: “Пожалуйста, поймите: мы никогда и ни при каких обстоятельствах не рукоположим вас во священники; в священном сане нам нужны только греки”.[23] Это не беспокоило меня, ибо я предал свое будущее в руце Божьи. Я счастлив был, что двери наконец открылись, и вошел, не претендуя ни на что. Я рассматривал свое принятие в лоно Православия не как “право”, не как то, что я мог “требовать”, но просто как свободный и незаслуженный дар благодати. Когда владыка Иаков назначил мне духовным отцом о. Георгия Шереметева, я испытал тихую радость, ибо мог оставаться близким к Русской Зарубежной Церкви.
Таким-то образом я подошел к концу своего путешествия, или, вернее, к новому и решающему этапу того путешествия, которое началось для меня в раннем детстве и продолжится, милостью Божией, вечно. В пятницу Светлой Седмицы 1958 г. — в день памяти иконы “Живоносный Источник” — владыка Иаков миропомазал меня в греческом кафедральном соборе св. Софии в Бейсуотере, в Лондоне. Наконец-то я вернулся домой.
О. Лазарь предупреждал меня, что в Православной Церкви “трудно найти великодушие, героизм или действительную святость”. Теперь, после более чем сорокалетнего пребывания в Православии, я могу сказать, что он был слишком пессимистичен. Нет сомнения, что я оказался гораздо удачливее, чем заслуживаю, но почти везде, где бывал, я находил в Православной Церкви горячую дружбу и сострадательную любовь и, кроме того, имел счастье встретить живых святых. Те предсказания, которые грозили мне в случае перехода в Православие отрывом от родного народа и культуры, оказались ложными. По моему убеждению, во всеобъемлющем Православии я стал не менее, но более истинным англичанином, ибо заново открыл древние корни английского народа: ведь его христианская история восходит к гораздо более раннему периоду, чем разделение Церквей на Восточную и Западную. Вспоминается беседа с двумя греками сразу же после моего обращения. “Как тяжело тебе, должно быть, — заметил один из них, — расставаться с Церковью твоих отцов”. Но другой сказал мне: “Ты не покинул Церковь своих отцов, но вернулся в нее”. Он был прав.
Нечего и говорить, что моя жизнь в качестве православного далеко не всегда была “небом на земле”. Нередко я впадал в глубокое уныние. Но разве Сам Иисус Христос не предрекал, что быть Его учеником — значит нести крест? И тем не менее сорок лет спустя говорю от чистого сердца: мое видение Православия на первой в жизни всенощной в 1952 г. было верным и истинным. Я не разочаровался.
Хотелось бы сделать только одну оговорку. То, что я не мог видеть в 1952 г. и что сегодня я вижу гораздо яснее, — это глубоко таинственный характер Православия, наличие в нем многих противоположностей и полярностей. Парадокс православной жизни в двадцатом веке подытожен о. Львом Жилле, выходцем из западного мира, который сам проделал путешествие к Православию и слова которого лучше, чем какие-либо из тех, что мне помнятся, выражают суть дела:
О странная Православная Церковь, столь бедная и столь слабая... чудом прошедшая сквозь все множество превратностей и тягот; Церковь контрастов, столь традиционная и в то же время такая свободная, столь архаичная и однако живая, столь обрядовая и вместе с тем так глубоко личностно-мистическая; Церковь, где так бережно хранится бесценная евангельская жемчужина, хотя и нередко под слоем пыли... Церковь, о которой так часто говорили, что она неспособна к действию, и которая тем не мене, как никакая другая, умеет воспевать пасхальную радость![24]
Перевод с английского Ю. Вестеля.
[1] The Russian Primary Chronicle, tr. S.H. Cross and O.P. Sherbowitz-Wetzor (Cambridge, MA: The Mediaeval Academy of America, 1953), III [“Повесть временных лет” по изданию: Памятники литературы Древней Руси. XI – начало XII века (М., “Художественная литература”, 1978), сс. 122–124].
[2] Alexis Khomiakov, “The Church is One”, in W.J. Birkbeck (ed.), Russia and the English Church during the Last Fifty Years (London: Eastern Church Association, 1985), 193–94. 211, 222 [А.С. Хомяков, Сочинения в 2-х томах. Т. 2. Работы по богословию (М., Моск. филос. фонд, изд. “Медиум”, ж. “Вопросы философии”, 1994), сс. 5, 16, 23].
[3] Georges Florovsky, “Sobornost: the Catholicity of the Church”, in E.L. Mascall (ed.), The Church of God. An Anglo-Russian Symposium by Members of the Fellowship of St Alban and St Sergius (London: SPCK, 1934), 55 (курсив оригинала). Статья перепечатана в Vol. 1 of Florovsky’s Collected Works (Belmont, MA: Nordland, 1972).
[4] “Sobornost”, 59.
[5] “Sobornost”, 73.
[6] Владимир Лосский, вводные замечания к статье Сергия, Патриарха Московского, “L’Йglise du Christ et les communautйs dissidentes”, Messager de l’Exarchat du Patriarche Russe en Europe Occidentale 21 (Paris, 1955), 9–10.
[7] Курсив мой. См. “Предание и предания” в кн.: Leonid Ouspensky and Vladimir Lossky, The Meaning of Icons (Olten, Switzerland: Urs Graf-Verlag, 1952), 17; в пересмотренном издании (Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary Press, 1982), 15. Эта статья перепечатана в: Vladimir Lossky, In the Image and Likeness of God (Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary Press, 1974), 141–68; см. 152. Безусловно, Лосский не исключает христологического измерения Предания, как это ясно из всего контекста данной фразы.
[8] “Предание и предания”, 19 (в пересмотренном издании 17)
[9] Ernest Barker, Social and Political Thought in Byzantium (Oxford: Clarendon Press, 1957), 28.
[10] Я имел счастье знать их не только по трудам, но и лично: Владимира Лосского до, а о. Георгия после своего перехода в Православие.
[11] “Sobornost”, 65, 67 (курсив оригинала).
[12] The Mystical Theology of the Eastern Church (London: James Clarke, 1957), 9 [Очерк мистического богословия Восточной Церкви (М., 1991), с. 10].
[13] Homily 22(23): tr. Wensinck, 112; tr. Miller, 116 [Иже во св. Отца нашего аввы Исаака Сириянина Слова подвижнические (М., “Правило Веры”, 1993; репринт изд. Тр.-Серг. Лавры, 1911), Слово 15, с. 60].
[14] Birkbeck, Russia and the English Church, 70–71 (курсив оригинала) [А.С. Хомяков, цит. изд., с. 271].
[15] Эта статья была написана Романидесом во время его учебы у Афанасьева в парижском Православном Институте преп. Сергия (1954–55), но в печати появилась только через несколько лет. См.: The Greek Orthodox Theological Review 7:1–2 (1961–62), 53–77. Позже Романидес отошел от основных положений евхаристической экклезиологии. См.: Andrew J. Sopko, Prophet of Roman Orthodoxy; The Theology of John Romanides (Dewdney, BC, Canada: Synaxis Press, 1998), 150–53.
[16] См.: N. Afanassief, “The Church Which Presides in Love”, in John Meyendorff and others, The Primacy Of Peter (London: Faith Press, 1962), 57–110 (new edition [Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary Press, 1922], 91–143). Cf. Aidan Nochols, Theology in the Russian Diaspora: Church, Father, Eucharist in Nikolai Afanas’ev (1893–1966) (Cambridge, England; Cambridge University Press, 1989).
[17] См.: John D. Zizioulas, Being As Communion: Studies in Personhood and the Church (Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary Press, 1985). Cf.: Paul McPartlan, The Eucharist Makes the Church: Henri du Lubac and John Zizioulas in Dialogue (Edinburgh: T. & T. Clark, 1993).
[18] To the Philadelphians 4 [Перев. прот. П. Преображенского в: Антология. Мужи апостольские и апологеты (Брюссель, 1988), с. 129].
[19] In Constantin G. Patelos, The Orthodox Church in the Ecumenical Movement. Documents and Statements 1902–1975 (Geneva: World Council of Churches, 1978), 96. Я думаю, что в составлении этого превосходного документа большая доля принадлежит о. Георгию Флоровскому. Жаль, что православные участники последних съездов ВСЦ не высказываются так ясно!
[20] Я имею в виду положение дел на 1960 г., основываясь на брошюре Parishes and Clergy of the Orthodox, and Other Eastern Churches in North and South America together with the Parishes and Clergy of the Polish National Catholic Church, 1960–61, под редакцией епископа Лористона Л. Скейфе (Lauriston L. Scaife), изданной Комиссией по сотрудничеству с восточными церквями Главного Совета протестантской Епископальной Церкви (the Joint Comission on Cooperation with the Eastern Churches of the General Convention of the Protestant Episcopal Church). В эту цифру не включены нехалкидонские исповедания. Публикация снабжена превосходными фотографиями.
[21] The Mystical Theology of the Eastern Church, 245–46 [Очерк мистического богословия Восточной Церкви (М., 1991), с. 185].
[22] Дата письма: 11 апреля 1957 г.
[23] На самом же деле я был рукоположен во иереи в 1966 г., восемь лет спустя, митрополитом (позже он служил архиепископом) Афинагором II Фиатирским, который приехал в Англию в 1963–64 гг.
[24] Father Lev Gillet, in Vincent Bourne, La Quete de Verite d’Irenee Winnaert (Geneva: Labor et Fides, 1966), 335.
Назад к списку